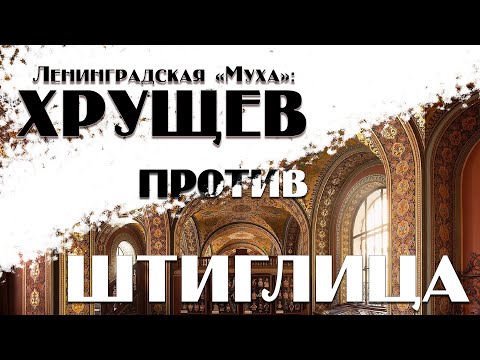– Мы? Договаривались? – переспросил у меня Бовин, приоткрыв дверь гостиничного номера. Было видно, что он сейчас меньше всего пытается вспомнить о моем звонке недельной давности, а скорее прикидывает, как свернуть разговор, не сильно обидев визитёра. Бовин приехал в Питер накануне и было понятно, что дневные дела столичной знаменитости, слывшей к тому же большим жизнелюбом, не могли не закончиться х-а-арошим товарищеским ужином здесь же в «Европейской» в ресторане «Крыша».
 Но это только вечером ужин хороший, а поутру… Именно это можно было прочитать на лице мэтра, раздосадованного этим утренним визитом и тем, что он так и не нашел в себе сил вовремя закрыть дверь. Бовин решительно взялся за её старинную резную ручку. Я понял, что встреча не состоится. А он, неожиданно широко открыв эту дверь, сказал, как отрубил: – Договор. Дороже. Денег. Раз договаривались – заходите!
Но это только вечером ужин хороший, а поутру… Именно это можно было прочитать на лице мэтра, раздосадованного этим утренним визитом и тем, что он так и не нашел в себе сил вовремя закрыть дверь. Бовин решительно взялся за её старинную резную ручку. Я понял, что встреча не состоится. А он, неожиданно широко открыв эту дверь, сказал, как отрубил: – Договор. Дороже. Денег. Раз договаривались – заходите!
И — я зашёл. Все дальнейшее и сегодня, 30 лет спустя, когда в моей жизни случалось ещё много чего разного и далеко не только в журналистской профессии, с которой я давно расстался; так вот сегодня я вспоминаю об этом с восторгом. Но как иначе воспринять сам факт моего попадания в номер главной и лучшей петербургской гостиницы «Европейская», где поселился гуру отечественной международной журналистики. Да, судьбу этой встречи решили эти 2-3 секунды его промедления в дверях. Мне их хватило, чтобы в сладком ужасе увидеть своего кумира в хлопчатобумажных спортивных штанах с вытянутыми коленями. А он в эти мгновения смог даже не понять, а почувствовать насколько его утреннему визитёру важна эта встреча и не только из-за возможности получить обещанное интервью.
Разумеется, мою журналистскую удачу можно списать на обязательность Бовина: обещал-выполнил. Не ему ли, мальчику, выросшему в военных гарнизонах, не знать, что это такое. И тогда всё могло закончиться по-военному же четко – за какие-нибудь полчаса он успел бы надиктовать дежурные ответы на дежурные вопросы. А потом наконец закрыть-таки за мной злосчастную дверь.
Но — нет. Прошел и один, и второй, и третий час нашего разговора. И размышлений. Да, Бовин оглядывался на свою жизнь и – размышлял. И зачастую делал свои выводы вслух, нимало удивляя не только меня, но и себя.
На четвёртый час нашей встречи мы отправились обедать. В ту самую «Крышу», где с утра его не дождались на завтрак. И там наш разговор продолжался…
Что такое интервью? Настоящее интервью. Это, когда ты влюблен в своего героя. А в случае с Бовиным моё чувство подкреплялась ещё и абсолютной, как и всех, верой этому человеку. И тогда интересно становится обоим. Невзирая на разницу в возрасте – Бовин был старше меня тогдашнего почти на 20 лет. Однако понимали мы друг друга с полуслова. Его профессиональные взлёты и падения были – ого-го! Но и моих «ого-го» мне хватало заглаза – просто масштаб был разный. И ему было интересно со мной. А мне с ним.
После ресторана, уже в номере Александр Евгеньевич рассказал мне о своей детской попытки самоубийства. Рассказал впервые. Не только мне. Вообще – впервые.
Потом он уехал. Неделей позже я послал ему в Москву на согласование текст интервью – была в те времена такая почти утраченная нынче традиция. Спустя ещё неделю материал вернулся, весь испещеренный правкой Бовина. Он правил не только содержание, но и стиль, удивив меня знанием корректорских знаков. И это – при его-то занятости! И это – для материала ещё недавно незнакомого ему журналиста из питерской молодёжки…
Правка, сделанная шариковой ручкой, продолжалось до последней страницы, но ближе к финалу поверх неё текст был перечеркнуты крест-накрест фломастером. Последние три абзаца надо было сократить! Это был кусок о том, как он пытался застрелиться. И о том, как для него важно, чтобы ему верили.
Я помнил о том, как ему было непросто тогда в тишине гостиничного номера рассказывать мне об этом. И я понимал, что его решение снять эти три абзаца было тоже непростым, но окончательным. Не скажу, что без такого финала это интервью было бы невозможно – жизнь Бовина и так поинтересней иного остросюжетного романа. Но увиденное моими глазами и описанная мной, эта жизнь была непрекращающийся борьбой за то, чтобы люди ему верили. И я написал Бовину письмо, где в числе прочего было сказано: «Я отдаю себе отчёт в том, что Вам такой финал может показаться ходульным… Но ведь автор-то этого материала, по несчастью, я. Так подарите, Александр Евгеньевич, мне этот финал, а?»
Держу пари — вспоминая сейчас вместе со мной об этом действительно незаурядном человеке, Вы подраслабились и думаете: ну вот сейчас Бовин уступит настырному журналисту. Но может быть не стоит переоценивать значение этого интервью в его жизни. Тем более, что именно тогда начал зреть этот, как сказали бы сейчас, проект — назначение Бовина послом России в Израиле. Учитывая полное отсутствие у него дипломатического опыта, а также и то, что сама эта страна, где проживает, как поется в песне «на четверть советский народ», всегда играла особую роль во всех наших внешнеполитических раскладах, у этой идеи были весьма авторитетные противники. И когда они, убеждая Горбачёва не назначать Бовина, привели последний аргумент — «К тому же он сильно пьет»», Михаил Сергеевич, как гласит исторический апокриф, отрезал — Но зато хорошо закусывает! — намекая на его полноту.
Шутки шутками, но зачем было Бовину подкидывать своим оппонентам ещё один мало подходящий для будущего посла поступок – попытку самоубийства, пусть даже детского. К тому же дипломатическая карьера, а об этом он мне тоже рассказывал в интервью, была его юношеской мечтой. И вот сейчас она наконец смогла осуществится…
Какой слабый аргумент я тогда избрал: «Так подарите, Александр Евгеньевич, мне этот финал, а?»
Слабый? Я представил себе его лицо, когда он прочитал эти строчки. Особенно это последнее «а?». Оно было таким же, как и тогда, когда он, стоя за полуоткрытой дверью гостиничного номера, услышал мои слова о том, что мы договорились о встрече. Две-три секунды нам было дано… И он распахнул дверь настежь.
Конечно же, при всех его житейских слабостях, Бовин – сильный человек. Сейчас, почти три десятка лет спустя, перечитав это подзабытое мною самим интервью, я снова убедился в этом. Почитайте его и вы.Тем, кого интересует российская история с ее непредсказуемым и поэтому всегда актуальным прошлым, это будет интересно. К тому же, за малоизвестными фактами биографии Бовина Вы, быть может, найдете ответы на какие-то свои сегодняшние вопросы.
Ну и самое последнее об интервью. Как там с самоубийственным финалом? Как же поступил Александр Евгеньевич Бовин, когда на него напяливали чужой и ненавистный ему галстук, фотографируя в известинском кабинете на дипломатический паспорт, а на его столе лежало письмо питерского журналиста с этим дурацким «а» в конце?
Читайте фрагменты интервью А.Е. Бовина.
Бовина у нас любят. И читатели, и телезрители, и те, кто приходит на вошедшие в моду публичные выступления журналистов. Вот и еженедельник «Аргументы и факты», опубликовавший индекс популярности политобозревателей, подводит под эту любовь цифровую базу: А. Бовин — абсолютный лидер, за него высказались 39,4 процента опрошенных. Ближайший к нему, В. Зорин, набрал 16,6 процента голосов.
В чем же причина устойчивой симпатии к этому человеку? Наверное, прежде всего она в том, что мы ему верим. И верили даже тогда, когда многим из его коллег-международников в этом доверии было отказано.
Колоритный облик этого человека знаком каждому из нас – распахнутый ворот рубахи, упрямо торчащие кверху кончики усов, бесстрашные и колючие глаза сошедшего с ринга, но так и не нокаутированного боксера-профессионала… Думаю, что именно в подробностях и деталях 58-летней жизни Александра Бовина кроется его феномен. Итак…
– Родился я в 1930 году в Пушкине, который тогда назывался Детским Селом. Отец мой в то время учился в Ленинграде, в Электротехнической академии РККА, а мать была воспитательницей в детском саду. Мы снимали комнату чуть ли не у бывшей фрейлины. Мне это запомнилось потому, что тогда запрещалось встречать Новый год с елкой: наша же хозяйка игнорировала это указание и елку ставила.
Не хочу задним числом корректировать свое тогдашнее восприятие. Ребенок есть ребенок. Помню «картинки». Когда отец окончил академию, ему, как всем выпускникам, был выдан памятный альбом. Вначале там были страницы с портретами всего тогдашнего армейского командования, затем – страницы с начальством академии, и уже потом, вперемешку со сценами занятий, фотографии самих курсантов. И постепенно, черной тушью – а отец был человек педантичный, большой аккуратист – закрашивались эти портреты и подписи к ним. Мне было тогда лет 7–8, но хорошо помню этот альбом с черными зияющими глазницами, которых становилось все больше…
– Александр Евгеньевич, раз уже мы пошли биографическим путем, давайте к нему вернемся. Что было после школы?
– Школу я окончил уже в Горьком. И мне, человеку, выросшему в провинции, захотелось стать – кем бы вы думали? – дипломатом. Прямым ходом я отправился в Москву поступать в… Дипломатическую академию. Дежурный при входе, увидев меня и еще с большим удивлением мой школьный аттестат, облил меня холодной водой, в академию принимают только тех, у кого уже есть высшее образование.
– А какое образование самое подходящее?
– Скорее всего юридическое.
И я отправился на юрфак МГУ.
– Тем не менее вы стали все-таки не дипломатом, а журналистом. Каким же образом?
– Исключительно по воле начальства. Но начать надо с того, что еще во время работы в судебных, а позже и партийных органах меня вдруг потянуло к абстракциям, и в 1956 году я поступил в аспирантуру философского факультета МГУ. После окончания аспирантуры я собирался работать в отделе пропаганды и агитации горкома партии одного уральского закрытого города. Все было договорено, однако неожиданно меня вызвали в журнал «Коммунист» и предложили стать научным консультантом философской редакции. И я согласился. С тех пор – москвич.
В «Коммунисте» работал с пятьдесят девятого по шестьдесят третий. Журналистика там своеобразная. Часто приходилось переписывать человеческим языком маловразумительные теоретические изыскания именитых авторов. Но и сам печатался.
– Без сложностей?
– Как сказать? В общем – да. Но именно там был впервые случай, когда меня хотели снимать с работы. Вышла моя статья, которая называлась «Наука и мировоззрение». В ней, в частности, говорилось, что существуют материальные носители наследственности и необходимо их изучать. Через несколько дней в «Сельской жизни», которая являлась не только придворным изданием Лысенко, но и газетой ЦК, появляется полоса, где в одном из разделов «народный академик» вовсю долбал «товарища Бовина». Скандал. Тучи сгустились. Но гром не грянул. Спасли академики. Группа физиков и химиков написала письмо в ЦК партии в мою защиту, и это отвело от меня гнев начальства.
Летом 1963 года меня пригласили в ЦК КПСС, в Отдел по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Тогда еще продолжалась инерция ХХ съезда и Юрий Владимирович Андропов, возглавлявший Отдел, собирал вокруг себя сведущих людей.
Во время первой беседы с Андроповым произошел еще один любопытный эпизод. Тогда наши отношения с китайцами только начинали портиться. И полемика шла в завуалированной форме. Например, в «Коммунисте» появилась серия редакционных статей с рассуждениями, является ли вторая половина ХХ века эпохой революции и бурь или эпохой мирного сосуществования или возможен мирный переход к социализму или не возможен?
Андропов спрашивает:
– Вы читали эти статьи?
– Конечно.
– Как вы их находите?
А поскольку я никак их не «находил», то стал говорить об отсутствии логики, слабой аргументации и рыхлой композиции этих публикаций. Мой товарищ, сидевший рядом, наступил мне на ногу. И я умолк.
Оказывается, я устроил разнос переложенным для журнала речам Суслова, Пономарева и самого Андропова. Тем не менее на работу в ЦК меня взяли, и проработал я там девять лет.
– Ходят всякие разговоры о том, как вы расставались с ЦК…
– Ходят. И надоели мне уже. А дело было так. В начале 1972 года я взял творческий отпуск – пытался написать докторскую диссертацию. И когда, так ее и не закончив, вышел через два месяца на работу, то почувствовал, что вокруг меня что-то происходит. Как будто электричество накапливается в воздухе перед грозой. Позвонил по старой памяти Ю.В. Андропову. Он тогда в КГБ был. Так, мол, и так, какие-то странные ощущения. «Не обращай внимания, работай», – отвечает он, хотя, как мне показалось, не очень уверенно. И вот через несколько дней в начале апреля утром ко мне в кабинет заходит фельдъегерь с пакетом. Я расписываюсь, вскрываю пакет, а там единственный лист: «Товарища Бовина А.Е. назначить политическим обозревателем газеты «Известия». И подпись: секретарь ЦК КПСС М. Суслов.
Разумеется, Бовин пытался выяснить причины своего освобождения от должности. Но все, кто мог знать что-либо определенное, ничего толком не говорили. И, кстати, до сих пор не говорят.
Такие были тогда времена. Людей действительно не ссылали в лагеря, их ссылали внутрь себя. На этой внутренней колючей проволоке получили общее заражение души многие. Но не все. И хотя большой отрезок жизни Бовина пришелся именно на застойные годы, и хотя через несколько лет высокое начальство «простило» его, Бовина, по счастью, миновал этот страшный сепсис.
– Восприняли ли вы случившееся как крах: неожиданное увольнение из Центрального Комитета партии и перевод на работу в газете?
– Ну, крах – это слишком сильное слово. К тому же, как стало ясно позже, именно благодаря уходу из ЦК я обрел себя в журналистике. Но на первых порах было трудно.
– Не появился ли у вас тогда комплекс неполноценности? Все-таки вам сразу пришлось работать на равных с профессионалами высокого уровня. Ведь и опальной должности надо соответствовать…
– Да нет, вы знаете, никакого комплекса у меня не было. Дело в том, что в ЦК я был на работе, которая требовала от меня знания международной ситуации, ее анализа, оценок. В общем, то же самое, чем занимаются журналисты. Просто раньше я писал для других читателей и в другом жанре.
В ЦК нужно было писать то, что есть на самом деле. С этим я пришел в газету. И как раз тут начались первые журналистские трудности. Первая моя статья в «Известиях» называлась «В преддверье визита» и была посвящена приезду Иосипа Броз Тито в Москву. Я написал и о том, что у нас очень сложные отношения с Югославией, что были определенные проблемы, что они и сейчас остаются. То есть пытался написать о том, как все было на самом деле. Когда материал отнесли к первому заместителю редактора «Известий» Полянову, он очень рассердился.
– Но вы же видели, как пишут остальные. Понимали, что так нельзя.
– Я не хотел этого понимать! У меня была другая школа. И когда в «Известиях» начался шум, я позвонил секретарю ЦК К. Ф. Катушеву и попросил его прочитать мою статью. Он согласился. Через час материал вернули с вычеркнутыми десятью строчками. После этого материал уже не редактировался.
– Вы знаете, Александр Евгеньевич, странное дело – вокруг вашего имени долгое время был некий таинственный ореол: раз Бовин позволяет себе больше, чем остальные журналисты, – это неспроста. Значит, ему позволено. В свое время стали даже поговаривать, что вы первый и любимый помощник Брежнева или что вы вообще чуть ли не в родстве с ним. Чепуха, конечно, издержки искривленной, застойной психологии. Но, как бы там ни было, вы действительно соприкасались и с ним, и, надо полагать, со всеми последующими нашими руководителями. Поэтому не могли бы вы сейчас продемонстрировать остроту своего журналистского взгляда и представить политические блицпортреты этих людей?
– Насчет демонстрации чего бы то ни было – это уж увольте. Что же касается руководителей, то общаться с ними действительно приходилось.
Если в жанре «блиц», то, пожалуй, так. Брежнев, говоря казенным языком, не соответствовал занимаемой должности. У него не было внутренних резервов для того, чтобы стать крупным политическим деятелем. Он жаждал стабильности, а привел страну к стагнации.
Черненко – посредственный аппаратный работник. Что называется – докатились!
Андропов имел все данные, чтобы превратиться в политического лидера мирового масштаба. Он явно «пересидел» в КГБ. И болезнь помешала.
С Горбачевым после его избрания Генеральным секретарем мне встречаться не приходилось.
– Вот уж действительно блиц. А если чуть-чуть расширить характеристики?
– Извольте. Брежнева не следует, на мой взгляд, изображать только в отрицательных тонах. Определенные его шаги в конце 60-х и начале 70-х годов были правильными. Взять хотя бы огромные средства, которые начали вкладывать в сельское хозяйство, – по сути, это была первая в истории нашей страны хоть какая-то попытка отдать деревне то, что у нее экспроприировали. Или важнейшие соглашения с Никсоном по ограничению вооружений, подписание Хельсинских документов.
Если иметь в виду политику внутреннюю, то Брежнев, по-моему, сломался под грузом чехословацких событий. Надо сказать, что тогда намечались меры по демократизации общества, поговаривали даже о пленуме ЦК по этому вопросу. Чехословацкие события все это перечеркнули. Кончились заигрывания с реформами. Усилились консервативные тенденции. Ускорился отход от курса ХХ-ХХII съездов. Во всем этом сказались и его симпатии к Сталину, внутренняя слабость Брежнева, его неинтеллигентность , отсутствие культуры. Он действительно поверил в свое величие. Плюс – болезнь. В конце 70-х с ним уже трудно было говорить, тем более – спорить.
В житейском плане Брежнев был, как мне казалось, в общем-то незлой и хлебосольный человек. Он любил охоту, обожал игру в домино и фильмы «про зверушек». Читал мало, говоря, что встречи и беседы с людьми заменяют ему книжную мудрость. Был стоек в своих привязанностях. Чадолюбив. Типичный случай недостатков, которые являются продолжением достоинств. Он рассаживал вокруг себя родственников, бывших сослуживцев и своих знакомых, ориентируясь на их личную преданность.
Дальше не по хронологии, а по внутренней сути идет Черненко. Умело пользуясь слабостями Брежнева, буквально пролез в Политбюро. Полная посредственность.
Теперь об Андропове. Это единственный человек из послесталинского руководства, у которого формально не было высшего образования. И в то же время по-настоящему образованный. Как-то я приехал к нему в больницу, а у него на тумбочке лежат «Диалоги» Платона. Говорю: «Зачем это вам, Юрий Владимирович?» – «Затем, чтобы со своими консультантами спорить». Споры, шумные иногда дискуссии в его кабинете были не исключением, а нормой.
Стихи он писал. И философскую лирику, и политическую сатиру. Помню, например, «Письмо волжского боцмана председателю Мао» (кстати, Андропов и сам был в молодости боцманом).
Я далек от мысли идеализировать Андропова. Он прожил очень непростую жизнь. Одна Венгрия чего стоит! Толпа, линчующая коммунистов, – этого он не мог забыть никогда. Через венгерскую призму он рассматривает и события в Чехословакии. А 17 лет работы в КГБ? Они сделали Юрия Владимировича очень подозрительным, мнительным даже. Ведь там мир воспринимается под весьма специфическим углом зрения.
И тем не менее Андропов чувствовал и понимал необходимость крутых и серьезных перемен. Хотя, боюсь, он действовал бы еще осторожнее, чем нынешнее руководство. Кстати, у Андропова были самые лучшие отношения с Горбачевым. Насколько я понимаю, он его активно поддерживал и считал своим политическим преемником.
– Я неравнодушен к вашему журналистскому творчеству, и поэтому, надеюсь, мне позволительно высказать такое свое наблюдение. Вы профессионал-газетчик, но на телеэкране выглядите гораздо ярче, чем на газетной полосе. В чем тут дело?
– Меня огорчает ваше суждение. Я больше люблю газету и лучшие свои работы стремлюсь делать на полосах «Известий».
Возможно, тут играют роль побочные обстоятельства. Газета – это бумага и буквы. А телевидение – это театр. Здесь включается все: и мимика, и интонация, и живая речь с ее особенностями. Отсюда – «яркость».
И вот еще что. «Известия» – газета строгая, «правительственная», как ее называют. И некоторые вольности, которые вполне естественны на телевидении или даже в других изданиях и которые дают иногда эффект яркости, в нашей газете неуместны.
– Александр Евгеньевич, несмотря на чувство юмора, сами вы редко улыбаетесь. Интересно, случается ли это, когда вы не на людях? И вообще: от чего вам в этой жизни бывает хорошо?
– Что касается улыбок, не знаю, не задумывался над этим. По-моему, я улыбаюсь довольно часто. А от чего хорошо? Хорошо, когда чувствую, что работа получилась. Хорошо, когда смотрю на внука, Макара Сергеевича. Хорошо посидеть с друзьями и поговорить «за жизнь». Хорошо получать письма, из которых видно, что тебя понимают, тебе верят.
Очень нужно, чтобы тебе верили… Был у меня в детстве один случай… Как-то у нас в доме пропали деньги. Довольно большие по тем скромным временам. И получилось, что, кроме меня, их взять некому. Но я их не брал! Тем ужаснее было, что родители, я чувствовал это, мне не верили. И я решил застрелиться. Оружие в доме военного было, и, дождавшись, когда все ушли на работу, я открыл ящик отцовского письменного стола, где лежал «кольт».
Помню, что я плакал. Но пацан ведь! Ощущая пистолет в руке, я стал перед зеркалом принимать героические позы, и вдруг раздался оглушительный выстрел. В стене – как воронка, вся комната в извести и кирпичной пыли. Остаток энергии ушел на то, чтобы навести порядок.
Многое в жизни было. Многое забылось. Но вот ощущение ужаса, безысходности какой-то, потому что мне не верят, помню до сих пор…
(Журнал «Журналист», № 9, 1989г.)